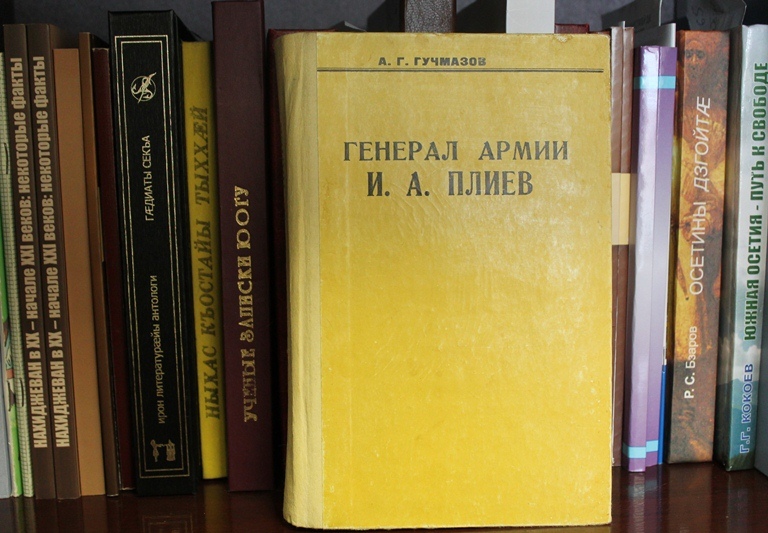Глава третья
5. Сдерживающие действия.
(Продолжение)
В эти кризисные для советской обороны дни перед мысленным взором Плиева постоянно возникал образ Москвы и что бы он ни делал, все думал о ней. Вспомнились стихи Пушкина: «Москва… как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!» Но почему только для русского? — спрашивал себя Плиев, — теперь уже для всех. Теперь она наша общая столица, и не просто общая, а советская. За нее все мы головы положим, но врагу не отдадим».
«За нами Москва! Ни шагу назад!» —этот призыв в истории нашей Родины звучал уже не первый раз. Но воспринимался он всегда остро, с болью в сердце и готовностью к самопожертвованию. Так было под Бородино в 1812 году, так было и теперь. «Позади — Москва!» Эти два слова волновали кровь, обжигали мозг. Эти два коротких слова говорили Плиеву о сложившейся обстановке гораздо больше, чем мог сказать самый обстоятельный доклад. И никакая, даже самая строгая директива не могла с такой категоричностью определить задачи, которые надлежало решать войскам, чем обусловленное этими двумя словами понимание чрезвычайной важности происходящих событий и той ответственности, какая ложилась персонально на плечи каждого защитника Москвы, начиная с солдата и кончая командующим.
«Позади —Москва!..» И Плиев делал все, что было в его силах и более того, чтобы точно и в срок выполнять приказы командующего группой и командующего армией. Но ему казалось, что затрачиваемые им и его подчиненными усилий не соответствуют важности решаемых задач. Ему казалось, что ненависть, которую питал к врагу, сжигает его, не находя достаточного выхода в соответствующих обстоятельствам действиях войск. Он хотел делать больше. Дольше удерживать занимаемые позиции, реже отходить. Однако Плиев командовал только дивизией, и не в его власти было решающим образом менять ход событий. Не имея такой возможности, он тем не менее не переставал оценивать сложившуюся обстановку и все более задумывался над характером действий войск армии. «Что это, — думал он, — то «Стоять насмерть!», то «Отходить!»? Опять: «Ни шагу назад!» а теперь снова: «Отходить!» В первый раз оторвались от противника, и все вроде бы шло хорошо. А теперь после непонятной паузы и попятного движения в сторону фронта, снова отходим, но уже с противником на хвосте… О чем они там думают? Что там происходит?»
«Там», конечно, думали… и делали то, что было в их силах. Но силы эти были ограничены, и надо было найти такие способы действий, которые позволяли бы малыми силами добиваться максимума возможного. Однако, взгляды командующего армией и командующего фронтом далеко не полностью совпадали в оценке обстановки, перспектив ее развития, а также в выборе способов действий, наиболее соответствовавших обстановке и возможностям советских войск. Столкнулись два подхода, две концепции. Их противопоставленность в идее привела на практике к тому, что войска 16-й армии вынуждены были в течение короткого времени, всего 2—3 дней, несколько раз менять характер своих действий, хотя в этом не было никакой необходимости, ибо замысел командующего армией и применявшиеся им способы действий как нельзя лучше учитывали особенности обстановки и обеспечивали войсками армии возможность ведения успешной обороны.
Командующий 16-й армией генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский в этой очень сложной и тяжелой обстановке весьма умело направлял действия своих войск. Он своевременно разгадывал намерения противника, чутко улавливал еще только обозначавшиеся угрозы противника и принимал необходимые меры для ликвидации этих угроз.
В арсенале командующего армией было немало способов действий, чтобы не дать угрозам противника свершиться. Но все эти способы, так или иначе связанные с необходимостью жесткой позиционной борьбы, требовали более значительных сил, чем те, которыми располагала армия. Кроме того, жесткая позиционная оборона при недостатке резервов для парирования обходных действий противника, обладавшего преимуществом в подвижности, по существу, превращалась в ловушку для оборонявшихся войск. Будучи окруженными, они выключались из дальнейшей борьбы. Но допустить окружения своих войск генерал-лейтенат К. К. Рокоссовский никак не мог. И не только потому, что окружение— всегда трагедия и для военачальника и для войск. На ближних подступах к Москве окружение армий было бы уже не просто трагедией одного полководца и подчиненных ему войск. Здесь она могла выйти далеко за рамки одной армии и даже фронта иметь чрезвычайные военно-политические последствия.
А такая угроза существовала. Противник, убедившись в том, что на волоколамском направлении, где доблестно сражались конники Плиева, танкисты Катукова и стрелки Панфилова, павшего смертью храбрых, ему не удастся прорвать оборону советских войск, стал готовить удар на клинском направлении, в обход правого фланга 16-й армии. Усилившаяся угроза с севера представляла тем большую опасность, что противник превосходящими силами продолжал одновременно оказывать сильный нажим и на всем остальном фронте армии.
В сложившейся обстановке, с учетом тенденции ее развития, основная забота и оперативная идея генерала Рокоссовского, как командующего армией, сводилась к тому, чтобы не допустить оперативных прорывов ударных группировок противника, не дать его подвижным войскам, обойти, окружить, а затем и уничтожить основные силы армии. Судя по развитию событий, противник стремился именно к этому. Поэтому, чтобы не идти навстречу устремлениям противника, генерал Рокоссовский решил вести сдерживающие действия, максимально используя выгодные условия последовательно занимаемых позиций и оставляя их только тогда, когда они теряли свое значение и дальнейшая их оборона грозила войскам армии окружением и уничтожением.
Рокоссовский был совершенно убежден в одном: в необходимости как можно дольше сохранить войска, не дав противнику возможности разгромить их одним ударом, к чему так стремилось немецко-фашистское командование, использовавшее с самого начала сражения на важнейших направлениях свои танковые дивизии.
Принимая свое решение, Рокоссовский невольно вспомнил исторический совет в Филях, на котором решался вопрос — давать ли сражение под Москвой или оставить город без боя, и знаменитые слова фельдмаршала М, И. Кутузова: «Доколе будет существовать армия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор сохраним надежду благополучно завершить войну, но когда уничтожится армия, погибнут Москва и Россия. Приказываю отступать».
Вспомнил Рокоссовский совет в Филях, конечно же, не случайно. Любой образованный военачальник, хорошо знающий историю военного искусства, принимая ответственные решения, вольно или невольно, чаще подсознательно, обращается к прошлому. И вообще уму человека свойственна привычка к аналогии. Она настолько сильна, эта привычка, что иногда начинает действовать как бы механически. Но военачальник прибегает к аналогии не потому, что надеется найти для себя в прошлом прямой ответ на вопрос: что делать, какое принимать решение? Нет. История готовых ответов не дает, но поиск аналогов, сходных случаев будил мысль, сильнее заставлял работать воображение. Аналогия была полезна и тем, что наводила на догадки, хотя и не давала ответа на вопрос о правильности предположения. Но чем глубже и шире было знание фактов военной истории и явлений военного искусства, тем выводы по аналогии являлись более достоверными и более приближенными к истине. Умозаключения по аналогии, помогая лучше разбираться в окружающей обстановке и предвидеть тенденции ее развития, позволяли с определенными коррективами на новые условия вооруженной борьбы с большей долей уверенности делать логически обоснованные оперативно-тактические выводы и, наконец, принимать уже собственное решение.
Однако, слишком различались условия, в которых приходилось действовать Кутузову и Рокоссовсокому. Решение, которое принимал Кутузов, было не только стратегическим, но и политическим. Рокоссовский не был наделен такими правами, как Кутузов, чтобы быть столь же категоричным в своем решении, как великий русский полководец. Перед ним не стоял вопрос об оставлении Москвы. Об этом не могло быть и речи. Ему предстояло принять «всего лишь» оперативное решение, направленное на то, чтобы наличными силами удержать Москву. Но аналогия все-таки была: и тогда и теперь ключом к решению являлась проблема сохранения войск и выигрыш времени. Кутузову нужна была армия, чтобы в конечном счете выигра войну, Рокоссовскому, — чтобы отстоять Москву. Но, учитывая разницу в специфике обстановки, масштабах, решавшихся тогда и теперь задач, целей, к которым стремились воюющие стороны, Кутузов решал проблему сохранения армии и выигрыша времени путем отступления. Рокоссовский — применением сдерживающих действий, более всего отвечавших в то время возможностям армии.
Надо, однако, прямо сказать, что решение командующего армией, учитывая опасную близость Москвы, было рискованным, потому что сдерживающие действия, ведущиеся, как правило, на пределе боевых и морально-психических возможностей войск, так или иначе связаны с отходом. А отходить было уже почти некуда: …«кирпичи древних кремлевских стен, — как образно и емко охарактеризовал обстановку писатель Сурков, — стали обжигать спины защитников столицы». Но не менее рискованно было бы стоять на месте, погибать на позициях, которые, будучи обойденными противником, теряли свое значение щита, прикрывающего столицу. Конечно, было бы не просто глупо, но и преступно цепляться за позиции в то время, когда танковые колонны противника, обойдя эти позиции и не имея уже перед собой никого, получали уже за спиной войск 16-й армии широкий простор для маневренных действий и выхода непосредственно к окраинам Москвы.
Нет, такая перспектива не устраивала командующего армией. Чувствуя личную ответственность за судьбу столицы, он сделал выбор. Итак, сдерживающие действия. Другого не было дано. Но, надо заметить, что командующий армией, приняв это решение, не чувствовал себя в положении человека, которому не оставалось ничего другого, как выбирать из двух зол наименьшее. Нет, он был убежден, что именно сдерживающие действия, хотя и они не решали всех проблем обороны, являлись лучшим способом действий, которые в сложившихся условиях, при умелом их ведении обеспечивали максимум того, чего можно было добиться наличными силами армии. Во всяком случае позволяли, сберегая по мере возможности силы армии, как можно дольше удерживать подступы к Москве и тем самым выиграть у противника драгоценное время. А время в этот период работало уже на командование Красной Армии, которое принимало все необходимые меры, чтобы сосредоточить в районе Москвы свежие резервы.
Но генерал Рокоссовский отдавал себе отчет в том, что принять соответствующее обстановке решение — это далеко не все. В условиях, когда войска вынуждены вести боевые действия в очень сложной обстановке да еще и ограниченными силами, на пределе своих моральных и физических сил, а, следовательно, и боевых возможностей, необходимо еще очень твердое и вместе с тем гибкое управление войсками.
А поэтому чтобы свести к минимуму фактор риска и обеспечить себе возможность твердого и гибкого управления войсками, Рокоссовский заблаговременно рассчитал во времени и. пространстве возможность чередования методов борьбы (оборона позиций—отход — снова оборона и т. д.) что и составляет, собственно, суть сдерживающих действий. При этом, естественно, первостепенное значение он придавал упорной обороне позиций, ибо отход сам по себе — это уже отступление и поэтому не решает задачи выигрыша времени. Отход рассматривался им как подчиненная обороне форма действий, к которой следовало прибегать лишь после того, как все возможности для обороны позиций оказывались исчерпанными, а также в случаях, когда оборона позиций теряла оперативный смысл или же действия противника создавали реальную угрозу окружения.
Таким образом, замысел Рокоссовского основывался на точных оперативно-тактических расчетах и требовал от войск железной стойкости при обороне позиций в сочетании со способностью к быстрому маневру при отходе на новые более выгодные рубежи. Малейший Просчет в управлении частями и соединениями или недостаточная расторопность (мобильность) войск могли привести к неудаче и, как говорится, «на корню» сгубить хорошо продуманный замысел.
Но надо отдать должное командующему армией: принимая рискованное во многих отношениях решение (а в личном плане — малопрестижное, ибо никогда не хвалят действий, в той или иной мере связанных с отходом, хотя они требуют от военачальника и войск большого искусства и выдержки), он хорошо рассчитал собственные силы, работоспособность своего штаба и возможности войск. Он был уверен, что войска армии сумеют в конце концов, удержаться на позициях, отстоящих от Москвы достаточно далеко. В своих расчетах командующий армией немало надежд возлагал на кавалерийскую группу генерала Доватора, которая представляла собой высокоманевренную боевую силу. А при ведении сдерживающих действий это качество являлось неоценимым: конница была идеальным средством для прикрытия.
Казалось, все уже решено. И все обосновано, ничто не вызывает сомнений. Однако военачальник никогда не позволяет себе успокоиться: он постоянно держит под контролем собственное решение, чтобы своевременно среагировать на изменения в обстановке, а до начала боевых действий, — чтобы еще раз проверить его правильность. И вот в поисках «идеала» Рокоссовский мысленно вновь обратился к прошлому. На этот раз на память пришло письмо А. В. Суворова барону Краю, в котором он писал, что «нет стыда уступить пост превосходному в числе неприятелю; напротив, в этом и состоит военное искусство, чтобы вовремя отступить без потери; упорное же сопротивление для удержания иного поста стоило бы дорого, между тем впоследствии придется все-таки отдать его превосходному неприятелю… Уступленный пост можно снова занять, а потеря людей невозвратима; нередко один человек дороже поста».
Здесь все вроде бы, очевидно, имеет прямой смысл. Но ведь письмо говорит и о важнейшей черте Суворова, как полководца: он был сторонник не силовых, а искусных действий. Поэтому и любил часто повторять: «Воюют не числом, а умением!» Так вот, обладая комбинационным мышлением Суворов на первое место ставил искусство. «Искусство выше силы, — думал Рокоссовский, — и здесь под Москвой, нам, уступающим противнику во многом, не следует так, прямо в лоб, противопоставлять силе противника свою силу… Прав русский генералиссимус, воевать надо умением, тем более что в числе уступаем врагу». Обращение к историческим аналогиям помогло Рокоссовскому рассеять всякие сомнения и утвердиться в мысли, что в ряде случаев сохранение войск является более важной задачей, чем отдельные тактические успехи, достигнутые за счет чрезмерного напряжения сил и больших потерь, в результате которых резко ослабевает боевая мощь войск и теряется оперативная перспектива.
Прав был Суворов: в иных случаях можно и уступить кое-что «превосходному в числе неприятелю». Когда нет другого выхода, нужно тактические выгоды в настоящем приносить в жертву будущим оперативным успехам. Однако здесь, под Москвой, речь шла не об. одном, изолированном «посте» тактического значения,, а о важном звене в системе стратегической обороны, выпадение которого хотя бы на короткое время означало резкое ослабление устойчивости всей системы. Здесь, под Москвой, речь шла не о «стыде» какого-нибудь одного военачальника. Решалась судьба Москвы, на карту был поставлен престиж советского военного искусства, Советских Вооруженных сил и ее руководящих военных кадров. Да и времена теперь были другие.
Здесь, под Москвой, уже ничего нельзя было отдавать врагу. Москва была тем пределом, за которым обрывается все — и силы, и дух, и воля. Потому что Москва была синонимом победы, питала нашу веру в победу. А вера — это и высокий моральный дух, это и несгибаемая воля, это решимость сражаться до конца.
Но Москва была не только символом нашей победы. Она имела огромное материально-осязаемое стратегическое значение как крупнейший транспортный узел и важнейший военно-экономический центр. Поэтому Москву ни в коем случае нельзя было отдавать врагу даже в том случае, если бы ее защита потребовала от советского народа неимоверных усилий и огромных жертв.
Кутузов в свое время решился на оставление Москвы, хотя еще не исчерпал всех ресурсов для ее защиты. В то время, в сложившихся тогда условиях, Кутузов видел в этом своем шаге возможность сохранить армию, занять по отношению к противнику более благоприятное оперативное положение, нарастить силы, в то время когда силы противника должны были неумолимо таять, — словом, получить наивыгоднейшие условия для последующего контрнаступления. Но даже тогда оставление Москвы было неслыханной смелостью, ибо, принимая такое решение, Кутузов вынужден был пойти наперекор воле многих «сиятельнейших» особ, в том числе и царя, которые не понимали всей глубины замысла великого русского полководца. Все перечисленные выгоды, которые получала русская армия, были очевидны только для самого Кутузова, который видел далеко вперед, намного дальше своего окружения.
Теперь же в новых условиях вооруженной борьбы, когда резко возросла зависимость армии от поставок промышленности, работы транспорта и т. д., терять Москву было нельзя, потому что это могло обернуться потом еще большими, неизмеримо большими потерями морального, материального и стратегического характера. Напротив, удержание Москвы оправдывало любые потери, так как позволяло сохранить моральные, материальные и оперативно-стратегические предпосылки для поворота событий в пользу Красной Армии. Все было взвешено на весах истории и военного искусства. Таким образом, в отличие от войны 1812 года, вопрос о Москве ставился и решался совсем по-иному. Ни о какой сдаче столицы не могло быть и речи. Такая мысль даже в голову никому не приходила. Москву никто не собирался сдавать, ее могли только взять, но взять, перешагнув через труп ее последнего защитника. А вот чтобы не допустить этого, день и ночь ломали головы и в штабе Западного фронта и в Ставке Верховного Главнокомандования. Вопрос ставился так: защитить, отстоять Москву любой ценой! Найти способы для этого. Мобилизовать все силы для этого. Удесятерить мужество каждого, чтобы совершить чудо.
Само собой разумелось, что Москва будет обороняться до конца. А «конец» понимали только как победу для себя и сокрушительное поражение для противника. Только такой «конец» устраивал защитников «столицы, только на это были настроены все советские люди, несмотря на то, что враг был еще очень силен и продолжал наступать. В этом еще раз с особой силой проявились верность советских людей ленинской правде, коммунистическая убежденность и советский патриотизм. Решимость защищать столицу до конца была абсолютной и безоговорочной. «Ни шагу назад!» — такова была военно-политическая установка в те грозные и тревожные дни.
Однако, все это не значило, что лозунг «Ни шагу назад!» должен исключать любую боевую инициативу со стороны командующих армиями, что их роль сводится лишь к механическому исполнению этой военно-политической установки, что им уже нет необходимости проявлять в полной мере свое военное искусство. Нет, конечно. В частности, командующий 16-й армией генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский считал своей первейшей обязанностью думать, чтобы общую военно-политическую установку превратить в факт оперативной обстановки, найдя для этого способы действий, которые позволили бы наиболее эффективно использовать в оперативном плане готовность воинов стоять насмерть, чтобы придать обороне большую устойчивость и, в конечном счете, остановить противника.
Но для этого нужна была известная смелость и оперативная гибкость. Рокоссовский готов был проявить и то и другое. Но его устремления наталкивались на сопротивление командующего фронтом, который, будучи сам талантливейшим полководцем, почему то в сложившейся ситуации уж слишком однозначно понимал призыв «Ни шагу назад!» Такое понимание лишало командующих армиями оперативной инициативы, а, следовательно, и необходимой гибкости в руководстве войсками. Видимо, чрезмерное чувство ответственности за судьбу столицы внесло определенные коррективы в понимание командующим фронтом того, что называется устойчивостью обороны и как, в каких пределах и какими средствами и способами она достигается. Во всяком случае взгляды командующего Западным фронтом и командующего 16-й армией по данному вопросу в тот период несколько расходились.
Высшее фронтовое командование требовало от командиров частей и соединений создания устойчивой обороны. Однако оно упускало из виду, что устойчивость — понятие относительное и что в тактическом масштабе в условиях возросшей мощи и дальнобойности средств поражения, а также высокой в целом подвижности войск противника, способных сравнительно быстро проникать в глубь обороны, она сводится лишь к способности удерживать определенные районы в течение определенного времени. В принципе части и соединения первого эшелона обороны одни, своими силами не в состоянии длительное время противостоять ударам наступающего противника и удерживать занимаемые позиции без поддержки сил и средств, составляющих оперативный эшелон обороны. Да это и понятно, ибо на них обрушивают свои удары не только войска, составляющие тактический эшелон, но и, в случае их неудачи, войска, составляющие оперативный эшелон наступающих. Таким образом, в тактическом масштабе устойчивость могла достигаться лишь в весьма ограниченных пределах времени. Объяснялось это не только тем, что в частях и соединениях было недостаточно сил, чтобы добиться абсолютной устойчивости, но еще и потому, что многие проблемы обороны в новых условиях решались уже за пределами их оборонительных полос. Изменения в условиях вооруженной борьбы, увеличившиеся возможности нанесения одновременных и мощных ударов на всю тактическую глубину и быстрого переноса усилий в оперативное расположение привели к пересмотру самого понятия устойчивости и в связи с этим к пониманию того, что создание устойчивой обороны возможно лишь в оперативном звене, которое располагало большими силами и возможностями. Теперь устойчивость следовало понимать как способность обороны сначала локализовать наступление противника в определенном районе, не выходящем за определенные оперативные рамки (чаще всего армейской обороны), а затем нанесением решительных контрударов покончить с вклинившимися группировками и восстановить положение.
Генерал К. К. Рокоссовский давно осознал эти новые закономерности и теперь, оценивая сложившуюся в полосе армии обстановку и возможности войск армии, еще раз убедился в том, что решать задачу разгрома вклинивающихся группировок противника в тактической полосе не представляется возможным. Эта задача, учитывая превосходство противника в силах и средствах, а также в подвижности, могла быть решена только в рамках оперативной обороны, причем не одноактно, а системой усилий, эшелонированных в оперативную глубину, — ведением сдерживающих действий, искусным сочетанием жестких, позиционных форм борьбы с гибким маневром и контратаками на всю глубину оперативного построения армии. Это должно было вконец измотать противника и задержать его дальнейшее продвижение к Москве.
Именно такое понимание устойчивости обороны, когда при отдельных вклинениях противника оперативный фронт сохраняет свою целостность, давало Рокоссовскому основание считать, что боевая решимость солдат стоять насмерть и защищать Москву до последнего вздоха не только не исключают для него возможности и необходимости в определенных условиях обстановки принимать более гибкие решения, но и обязывает его к этому. Он сознавал, что боевая стойкость солдата только тогда становится фактором оперативного значения и достигает нужного эффекта, когда солдаты чувствуют, что они управляемы свыше, что их физические и моральные силы используются не втуне, а в соответствии с хорошо продуманным замыслом, работают на этот замысел, что командование не злоупотребляет их стойкостью, не подменяет ею решений, которых от него требует меняющаяся обстановка.
И вот теперь, когда обстановка резко менялась, когда противник создал реальную угрозу охвата правого фланга армии, Рокоссовский стал перед необходимостью принятия решения, которое отвело бы эту угрозу. И командующий 16-й армией, никогда не уходивший от ответственности, тщательно оценив обстановку и всесторонне продумав возможные последствия, решил в интересах повышения устойчивости обороны и перспектив ее ведения отвести войска армии на рубеж реки Истра и Истринского водохранилища. Своевременный отвод войск армии на этот рубеж решал не только проблему правого фланга, угроза которому уже наметилась в результате сосредоточения сильной ударной группировки противника на клинском направлении. Отвод войск позволял сохранить линию фронта и организовать прочную оборону сравнительно небольшими силами на выгодном естественном рубеже. А это, в свою очередь, давало возможность вывести некоторое количество войск во второй эшелон, создав тем самым глубину обороны, а также перебросить значительную их часть на угрожаемое клинское направление.
Итак, приказ войскам гласил: «Отходить!» Отходить, чтобы своевременно уйти из-под охватывающего удара противника и не дать ему обойти себя. Отходить, чтобы сохранить войска, которые, растянувшись на широком фронте, из последних сил удерживали позиции. Отходить, чтобы не дать противнику прорвать фронт обороны армии. Отходить, чтобы, заняв, выгодный рубеж обороны, дать противнику бой в более благоприятных для войск армии условиях и выиграв время, наконец, остановить его.
Рокоссовский хорошо сознавал, какую огромную ответственность берет на себя. Ведь до Москвы оставалось совсем немного: «кирпичи кремлевских стен» обжигали и его спину. Но он был убежден, что делает именно то, чего от него требует обстановка, требуют интересы защиты столицы. Хотя у него за спиной оставалось не так уж много пространства и, казалось, дальше отступать-то уже некуда, однако он рассчитал, что на истринском рубеже танки и моторизованные соединения немцев упрутся в непреодолимую преграду, не смогут использовать свою подвижность и, в конечном счете, в своих бесплодных попытках прорвать оборону сломают себе зубы. Рокоссовский был уверен, что оборона на истринском рубеже позволит войскам армии надолго задержать врага, а за это время подойдут резервы и обстановка может круто измениться в пользу Красной Армии.
Будучи уверен в правильности своего замысла, Рокоссовский обратился к командующему фронтом с просьбой разрешить отвод войск на истринский рубеж, не ожидая пока противник силою отбросит их туда и на их же плечах форсирует реку и водохранилище. Однако генерал армии Г. К. Жуков не принял во внимание соображения командующего армией и приказал стоять насмерть, не отходя ни на шаг.
«Стоять насмерть!..» Но, как считал Рокоссовский, это требование не освобождало командующего армией от ответственности и необходимости принимать оперативные решения — решения, в которых это требование могло быть действительно реализовано. Вот что пишет по этому поводу К. К. Рокоссовский в книге «Солдатский долг»: «На войне возникают ситуации, когда решение стоять насмерть является единственно возможным. Оно безусловно оправданно, если этим достигается важная цель — спасение от гибели большинства или же создаются предпосылки для изменения трудного положения и обеспечивается общий успех, во имя которого погибнут те, кто должен с самоотверженностью-солдата отдать свою жизнь. Но в данном случае позади 16-й армии не было каких-либо войск, и если бы обороняющиеся части погибли, путь на Москву был бы открыт, чего противник все время и добивался».
Но командующий 16-й армией не хотел идти навстречу устремлениям противника. Считая вопрос об отходе на истринский рубеж очень важным и будучи убежден в своей правоте, он предпринял еще одну попытку добиться утверждения своего плана дальнейших действий. Долг военачальника и коммуниста не позволил ему безропотно согласиться с решением командующего фронтом, и он обратился к Маршалу Советского Союза Б. М. Шапошникову, который признал доводы Рокоссовского обоснованными и, как начальник Генерального штаба, санкционировал его решение. Однако надежды Рокоссовского, отдавшего распоряжение об отводе войск на истринский рубеж, оказались преждевременными. Войска только начали движение, как в штаб армии пришла короткая, но грозная телеграмма Г. К. Жукова: «Войсками фронта командую я! Приказ об отводе войск за Истринское водохранилище отменяю, приказываю обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад не отступать. Генерал армии Жуков».
Приказ есть приказ. Пришлось возвращать на прежние позиции части, которые, проявив высокую мобильность, уже двинулись было в сторону водохранилища. Вот тогда-то и вырвалось в сердцах у Плиева: «О чем они там думают? Что там происходит?»
Генерал армии Г. К. Жуков как командующий фронтом, безусловно, имел и обязан был иметь собственную оценку сложившейся обстановки и, более того, иметь собственные соображения относительно дальнейших действий войск фронта, способов решения ими важнейшей стратегической задачи — как отстоять Москву. Однако удивляет другое. В первые дни вражеского наступления действия войск 16-й армии не только не вызывали у Жукова каких-либо возражений, но, напротив, многие ее соединения, в том числе и дивизия Плиева, удостоились похвалы со стороны Военного совета фронта. А ведь и тогда войска армии, не имея достаточно сил, по существу, вынуждены были вести сдерживающие действия. Более того, теперь, уже спустя почти 30 лет, Маршал Советского Союза Г. К. Жуков дал объективную оценку действиям войск 16-й армии в тот период. Вот что он пишет в своей книге «Воспоминания и размышления»: «Бои 16—18 ноября для нас были очень тяжелыми. Враг, не считаясь с потерями, лез напролом, стремясь любой ценой прорваться к Москве своими танковыми клиньями.
Но глубоко эшелонированная артиллерийская и противотанковая оборона и хорошо организованное взаимодействие всех родов войск не позволили противнику прорваться через боевые порядки. 16-я армия медленно, но в полном порядке отводилась на заранее подготовленные и уже занятые артиллерией рубежи, где вновь ее части упорно дрались, отражая яростные атаки гитлеровцев». Это признание. Запоздалое признание, потому что в те горячие дни, когда обстановка еще более осложнилась и Рокоссовский, стремясь ликвидировать нависшую над армией угрозу, решил отвести войска на истринский рубеж, то есть продолжить, по существу, прежние, оправдавшие себя способы действий, Жуков категорически воспротивился этому.
В чем же дело? Почему действия войск, которые удовлетворяли Жукова до поры до времени, а точнее до 21 ноября, теперь, начиная с 21 ноября, его уже не устраивали? Видимо, Жукова смущало то, что войска армии, в отличие от предыдущих дней, отводились сразу на 10—12 километров и фронт существенно приближался к Москве. Но что было делать? До того, пока войска армии испытывали давление противника лишь с фронта, они могли отходить, последовательно занимая новые рубежи на небольшом удалении друг от друга. Но теперь, когда обстановка существенно менялась, когда противник угрожал уже не флангам отдельных соединений, а флангам армии в целом, причем более глубоким, чем прежде, обходом, — такая обстановка обусловливала необходимость и более глубокого отхода. Иначе, учитывая более высокую подвижность противника, можно было опоздать и оказаться в кольце…
Два военачальника, оба бесспорно талантливых, но одну и ту же обстановку они оценивали по-разному, по-разному, видимо, оценивали они и возможности войск фронта и армии решать стоявшие перед ними задачи. Несмотря на единое понимание цели, взгляды командующего армией и командующего фронтом на методы ее достижения стали все более разниться по мере приближения противника к Москве.
Можно, конечно, объяснить жесткую позицию Жукова и жесткость его требования «Ни шагу назад!» близостью Москвы и огромной ответственностью, возложенной на него. Но подобную ответственность испытывал и Рокоссовский, чья армия «единолично» действовала на направлении, которое кратчайшим путем выводило к Москве. Если с кого следовало спрашивать за состояние обороны на подступах к столице, так это, в первую очередь, с Рокоссовского. Так в чем же дело? Очевидно, в том, что каждый военачальник по-своему чувствует опасность и по-своему видит пути ее предотвращения и ликвидации. И все-таки… видимо, есть какое-то решение, которое наиболее полно соответствует обстановке, которое позволяет при минимальных издержках добиваться максимально возможных результатов. Но это при том условии, если оно — это оптимальное решение — осуществляется своевременно. Однако в рассматриваемом нами случае близость Москвы и огромнейшая ответственность действительно давили на сознание Жукова и не всегда позволяли ему своевременно видеть возможность иных, более гибких и оперативно более эффективных решений, нежели прямолинейная и однобокая ориентация на установку «Ни шагу назад!» Он, видимо, забывал, что эта военно-политическая установка — не оперативное решение, а лишь условие для его принятия и успешной реализации. Обстановка же требовала смелого и продуманного решения…
…Отход, который Жуков запретил Рокоссовскому 21 ноября, стал неизбежным уже через два дня, когда танки противника ворвались в Клин и между 16-й и 30-й армиями образовался опасный разрыв. Вот что пишет по этому поводу сам Жуков: «Чтобы не подвергать части 16-й армии угрозе окружения, в ночь на 24 ноября их пришлось отвести на следующий тыловой рубеж».
Таким образом, то, что для Рокоссовского было оче-видным еще 21 ноября, стало очевидным и для Жукова… но уже два дня спустя. А так как Жуков был старшим начальником, правильное в идее решение стало осуществляться со значительным опозданием, и это не могло не сказаться на эффективности действий войск армии, вынужденных начать отход уже в менее благоприятных условиях.
Умение оценивать обстановку, предвидеть ее развитие и делать из этого правильные выводы — важнейшее качество военачальника. Жуков сам не раз проявлял прозорливость, своевременно предлагая Сталину те или иные решения. Читатель, наверное, помнит, как Жуков в конце июля, а затем и в середине августа, предложил Сталину целиком отвести за Днепр Юго-Западный фронт, когда нависла угроза выхода противника во фланг и тыл его войскам. Предложение было отвергнуто. Но уже в начале сентября Сталин вынужден был признать правоту Жукова. Однако было уже поздно. Теперь самому Жукову тоже понадобилось время, чтобы хотя бы в душе признать прозорливость Рокоссовского, который три дня тому назад предлагал сделать то, на что Жуков решился лишь теперь. Но теперь обстановка была уже иной. Если 21 ноября отход — планомерный, организованный— был еще возможен, то в ночь на 24 ноября эта возможность была уже весьма относительной. Одно дело осуществлять намеченный отход заблаговременно, по плану, уйдя из-под непосредственных ударов противника, имея для главных сил резерв времени, а другое — когда все делается под ударами противника в спешке. Ведь когда противник «сидит на хвосте» и «наступает на пятки», как говорится, «бьет и в хвост и в гриву», не всегда есть возможность осмотреться, н вот тогда-то и допускаются ошибки. Последствия от этого бывают самые тяжелые. И теперь вот, вместо отхода в классическом его виде, возможность которого 21 ноября еще существовала, приходилось уже отступать. А это далеко не одно и то же.
Рокоссовский, предвидя развитие событий и пытаясь предотвратить некоторые из возможных угроз противника, стремился осуществить именно отход, прикрывшись арьергардами, вывести из боя главные силы и, оторвавшись от противника, заблаговременно занять ими подготовленный истринский рубеж. Теперь же, потеряв драгоценное время и не имея пространства для отрыва от противника, части армии вынуждены были поспешно занимать новый рубеж обороны под ударами вражеских дивизий. А это лишало оборону возможности с самого же начала встретить атаки противника мощным огнем заранее продуманной и организованной системы. Воспользовавшись этим, противник сумел кое-где на плечах отходивших частей форсировать реку и водохранилище и вклиниться в оборону советских войск.
Вот так, потеряв драгоценное время, войска армии все-таки оказались на истринском рубеже. Но потеря времени обернулась менее выгодными условиями для осуществления всех намеченных командующим армией мер по повышению устойчивости обороны в целом и надежному обеспечению правого фланга армии в частности. Вот так дорого обошлась войскам армии чрезмерная прямолинейность в стремлении воплотить в жизнь военно-политические установки, минуя стадию их оперативно-тактического осмысления.
«Ни шагу назад!» — это требование имеет прямое и безусловное значение для бойцов и командиров низшего тактического звена. Хотя и в этом звене командиры в пределах обороняемой ими позиции должны проявлять известную гибкость, маневрируя силами и средствами с одних направлений на другие, более угрожаемые. Что же касается военачальников высшего тактического и оперативного звена, то они безусловно должны проявлять более высокую степень гибкости в управлении войсками, чтобы в конечном счете выполнить требование «Ни шагу назад!» А это значит, что они должны применять весь комплекс средств и способов действий, которыми располагает военное искусство для нанесения максимально возможного урона противнику при минимальных потерях пространства. Следовательно, это подразумевает и возможность отхода в определенных, строго ограниченных требованиями обстановки пределах пространства, если отход в перспективе обещает более выгодные условия для успешного продолжения борьбы и возможность возвращения утерянного пространства.
Генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский так все и понимал. Его совесть была чиста. Он выполнил свой долг военачальника и коммуниста, до конца отстаивал замысел, в целесообразности которого был убежден. Он был командующим армией и ему не пристало быть безропотным, механическим исполнителем воли старшего начальника. В то же время положение подчиненного обязывало его выполнять приказ старшего начальника. И он стал выполнять его, хотя в душе остался при своем мнении. Это раздвоение, часто драматическое, — следствие специфики военной службы, противоречия, которое возникает из положения военачальника одновременно и как начальника и как подчиненного, человека, имеющего свои взгляды, соображения, замыслы, решения, а также волю, чтобы их реализовать, но подчиняющегося чужой воле, выполняющего решения, с которыми не всегда и не во всем согласен. Это реальное противоречие, возникающее из двойственного положения военачальника, и решается оно, как правило, в пользу субординации (что не всегда, к сожалению, совпадает с интересами дела).
- На правом крыле армии. Противник прилагал огромные усилия, чтобы перерезать Волоколамское шоссе. Особенно ожесточенные бои разгорелись в районе День-ково. Однако казаки Плиева, несмотря на то, что силы их были на исходе, сумели надежно прикрыть шоссе с юга. Но превосходство противника в силах и средствах с каждым часом сказывалось все сильнее. И тем не менее полки 50-й кавалерийской дивизии держались столько, сколько было нужно для того, чтобы дать возможность частям 8-й гвардейской стрелковой дивизии организованно занять новый рубеж обороны. Вплоть до 22 ноября советские конники удерживали рубеж Поспелиха, Надеждино. Затем, выполняя приказ, они стали отходить за боевые порядки стрелковых соединений в направлении северного побережья Истринского водохранилища и сосредоточились в районе Нудоль, образуя как бы правое крыло армии. К этому времени кавалерийская группа генерал-майора Л. М. Доватора, получив в свой состав 20-ю кавалерийскую дивизию, была преобразована в 3-й кавалерийский корпус.
23 ноября противник с новой силой обрушился на оборону советских войск и к исходу дня овладел городом Клин. В дальнейшем ударные группировки противника стали развивать наступление вдоль Ленинградского шоссе на Солнечногорск. Выход противника в этот район создал серьезную угрозу целостности системы обороны советских войск. Чтобы предотвратить прорыв противника вдоль Ленинградского шоссе к Москве, командующий 16-й армией, не располагавший более резервами, вынужден был снять часть сил, предназначавшихся для обороны истринского рубежа, и бросить их под Солнечногорск. Туда же еще с утра 23 ноября, как только обозначилась угроза прорыва противника в сторону Клина, форсированным маршем двинулись и соединения 3-го кавалерийского корпуса, усиленные двумя батальонами из 8-й гвардейской стрелковой дивизии и двумя батальонами 129-й и 146-й танковых бригад. Перед корпусом стояла задача: переправившись по льду через Истринское водохранилище, занять оборону по его северному берегу. Однако уже в ходе марша командованием фронта задача корпусу была уточнена. Теперь вместо обороны рубежа Скородумки, Обухово, Кривцово, части корпуса должны были наступать и выбить противника из Солнечногорска.
Уже под покровом темноты соединения корпуса, в авангарде которых находилась дивизия генерал-майора И. А. Плиева, перешли по льду водохранилище и стали занимать исходное положение для наступления. Наступление на Солнечногорск началось поспешно, так как соединения корпуса, получив новую задачу в ходе форсированного марша, временем на подготовку и организацию удара почти не располагали. И тем не менее в 12 часов 24 ноября все три кавалерийские дивизии перешли в наступление, пытаясь охватить врага, засевшего в городе, с юго-запада и юго-востока.
Главный удар в общем направлении на Селищево, Мартыново, Головково нанесла 50-я кавалерийская дивизия. Когда полки первого эшелона, несколько продвинувшиеся вперед, были остановлены сильным огнем противника, Плиев ввел в бой свои резервы — кавалерийский полк и приданные дивизии на усиление два танковых батальона. Умелое и своевременное использование резервов для наращивания силы удара позволило преодолеть упорное сопротивление противника еще до того, как тот смог получить подкрепление, и овладеть Сверчково и Селищево. Затем, отразив контратаки противника, части 50-й кавалерийской дивизии стали развивать наступление на Мартыново, обходя его главными силами (два полка) с тыла и одновременно атакуя частью сил (один полк) с фронта.
В этом маневре еще раз и наиболее выпукло нашла свое выражение важнейшая черта характера И. А. Плиева и вместе с тем его боевое кредо — решительность. Если обычно многие военачальники прибегают к маневру лишь меньшей частью сил, используя главные силы в основном с фронта, то Плиев, напротив, в обход чаще Всего бросал главные силы, сковывая противника с фронта сравнительно небольшими силами. Таким образом, он приводил в действие важнейшее качество конницы — ее тактическую подвижность. И чем больше сил участвовало в маневре, тем сильнее проявлялось это качество и тем труднее было противнику противодействовать этому маневру. Уже сам маневр конницы ставил противника в затруднительное положение, а следующий за ним удар большими силами с наиболее уязвимого для него направления лишал его почти всех шансов на успешное противодействие.
Таким образом, один из «секретов» ратного искусства Плиева заключался в том, чтобы максимально использовать высокую маневренность конницы и быстро выводить ее главные силы на наиболее уязвимые для противника направления. Последующий удар, как правило, приводил к решительным результатам. Эта сторона боевого мастерства Плиева была отмечена командующим 16-й армией генерал-лейтенантом К. К. Рокоссовским: «Генерал Плиев с присущей ему энергией и стремительностью разгромил силами своей дивизии в Сверчково, Селищево и Мартынове 240-й пехотный полк немцев».
Да, 240-й пехотный полк противника был почти полностью уничтожен. Внезапные и решительные действия советской конницы вынудили немецко-фашистское командование спешно подтянуть резервы. Введя в бой свежие силы, противник атаковал левый фланг 50-й кавалерийской дивизии и стал заходить ей в.. тыл. В этот критический момент Плиев лично возглавил последний оставшийся в его резерве эскадрон и при поддержке танков повел его в контратаку. Дерзкими и умелыми действиями противник был отброшен. Угроза с тыла была снята. Однако дальнейшие попытки развить удар успеха не имели и части дивизии, понеся большие потери, особенно от ударов авиации, под натиском танковых группировок противника к утру 25 ноября вынуждены были закрепляться на достигнутом рубеже.
Хотя удар 3-го кавалерийского корпуса и не достиг полностью намеченных целей, тем не менее он имел важное значение для некоторой стабилизации положения на правом фланге армии, который после выхода противника в район Солнечногорска стал наиболее уязвимым местом в системе ее обороны. Контрудар конницы задержал наступление крупной группировки противника вдоль Ленинградского шоссе на Москву. Гитлеровцы были несколько отброшены назад и понесли значительные потери. Но главным итогом этого удара следует считать выигрыш времени, который позволил советскому командованию подтянуть резервы.
Беззаветная храбрость и исключительная стойкость казачьих дивизий, их умелые действия в сложных условиях обстановки были по достоинству оценены Верховным Главнокомандованием — 26 ноября 50-й и 53-й кавалерийским дивизиям было присвоено наименование гвардейских. Был образован 2-й гвардейский кавалерийский корпус, куда, помимо казачьих дивизий, вошла и 20-я кавалерийская дивизия. В решении Ставки Верховного Главнокомандования, в частности, говорилось: «За проявленную отвагу в боях с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество и героизм личного состава преобразовать: 50-ю кавалерийскую дивизию в 3-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию (командир дивизии генерал-майор Плиев Исса Александрович)».
Присвоение соединениям корпуса наименования гвардейских вдохновило личный состав, влило в него новый заряд боевой энергии. Советские кавалеристы с еще большим упорством отстаивали занимаемые рубежи, дрались за каждый метр родной подмосковной земли.
Однако, в целом оперативная обстановка складывалась не в пользу советских войск, и командование армии вынуждено было начать отвод частей кавалерийского корпуса на рубеж Пешки, Савельево. К этому вынуждало и состояние частей корпуса, понесших большие потери, особенно, от ударов авиации противника. Кроме того, на войне нередко бывает и так, что войска, проявившие активность, большую, чем позволяли их боевые возможности, и вследствие этого не сумевшие добиться ожидаемых результатов, в сложной, динамичной обстановке, когда противник сам постоянно активен, затем оказываются не в состоянии не только наращивать активность, но и удержаться даже на ранее занимаемых позициях. Так случилось и здесь. Все силы были вложены в удар, который наносился на Головково. Казалось, от него зависела судьба Москвы. Но когда этот удар в ходе ожесточенных боев противнику в конечном счете все-таки удалось отбить, кавалеристы вынуждены были отходить — большие потери на время надломили их силы.
…Итак, 2-й гвардейский кавалерийский корпус отводился на рубеж Пешки, Савельево. В этих условиях командир корпуса генерал-майор Л. М. Доватор принимает решение: перебросить 3-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию И. А. Плиева с приданными ей двумя танковыми батальонами на свой правый фланг с задачей—освободить участок Ленинградского шоссе севернее села Пешки. Однако ко времени выхода дивизии в назначенный ей район противник, введя в сражение крупные силы танков и мотопехоты и развивая наступление вдоль Ленинградского шоссе, еще глубже вклинился в расположение советских войск: ему удалось овладеть районом Есипово, Пешки, Савельево.
Обстановка резко изменилась. Рубеж, на который отводился корпус, оказался у противника. Казалось, задача, поставленная дивизии Плиева, уже потеряла смысл, более того, не стало условий, которые хоть в какой-то мере могли вселять надежду на успех. Однако это не останавливает Плиева. Изменение обстановки не могло служить для него поводом для выжидания указаний свыше. Верный себе, он и здесь показывает свою постоянную готовность к проявлению боевой инициативы. Видя, что за Пешки уже ведут боевые действия части подошедшей из глубины 7-й гвардейской стрелковой дивизии, Плиев, быстро оценив ситуацию, принимает решение атаковать противника. Расчет Плиева на успех строился на внезапности удара: противник, втянутый в бой с советской пехотой, не был готов к отражению удара с нового направления. И, действительно, стремительный удар конницы из леса западнее села имел успех. Противник, застигнутый врасплох, стал отдельными группами отходить. Но довести дело до конца частям дивизии Плиева не удалось: поступил приказ командира корпуса о сдаче района частям 7-й гвардейской стрелковой дивизии и выходе из боя.
Однако, не прошло и нескольких часов, как Плиев получил боевое распоряжение о выполнении прежней задачи. Командиру дивизии только и оставалось, что развести руками и …приступить к делу. Но время было упущено. Элемент внезапности утерян. Противник за это время пришел в себя, успел усилиться и организовать оборону. Борьба за Пешки приняла затяжной характер. Противник вводил в бой все новые и новые резервы, а силы 3-й гвардейской кавалерийской дивизии все более убывали. В кровопролитных боях с превосходящими силами врага сложили свои головы лучшие офицеры и солдаты дивизии. И все-таки частям дивизии удалось ворваться в Пешки. Однако из-за больших потерь советские конники уже не имели сил не только развить достигнутый успех, но и закрепить его. Они вынуждены были оставить Пешки и перейти к обороне на новом рубеже.
Хотя частям 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, несмотря на настойчивые попытки, и не удалось отбить у противника рубеж Пешки, Савельево, тем не менее их контратаки имели большое значение. В ходе этих боев корпусу удалось выиграть у противника целых трое суток! Это был большой выигрыш. За это время командованию армии и фронта удалось подтянуть резервы и закрыть ими оказавшиеся неприкрытыми промежутки в оборонительной системе армии. Тактический успех соединений кавалерийского корпуса приобретал, таким образом, оперативный смысл. В последующие дни 3-я гвардейская кавалерийская дивизия в составе корпуса перебрасывалась командующим армией с одного рубежа на другой для ликвидации кризисных ситуаций. Не раз дивизия оказывалась в окружении или же под угрозой окружения, и, чтобы выйти в новый район и приступить к выполнению новой задачи, прежде нужно было решать задачу прорыва через боевые порядки противника.
Здесь, пожалуй, следует сделать небольшое отступление и заметить, что в битве под Москвой использование соединений кавалерийского корпуса Л. М. Доватора со стороны командующего армией носило весьма своеобразный характер. Это своеобразие было обусловлено не только особенностями самой конницы, как маневренной силы, но и весьма сложной и тяжелой обстановкой, в которой приходилось действовать войскам армии, а также недостатком сил вообще и подвижных войск в частности.
Своеобразие в использовании кавалерийских дивизий заключалось в том, что в течение короткого промежутка времени они вынуждены были резко менять характер своих действий и от решения одних задач сразу же переходить к решению других. Так, например, боевая задача 3-й гвардейской кавалерийской дивизии И. А. Плиева в течение лишь одного месяца менялась, по меньшей мере, раз десять. Это соответственно сказывалось и на характере и на способах ведения боевых действий. Читатель, вероятно, помнит, что части дивизии использовались для обороны позиций на самостоятельных участках, занимая рубежи по реке Лама севернее Волоколамска, затем по реке Большая Сестра и снова по реке Лама, но уже юго-восточнее Волоколамска, прикрывая левый фланг 16-й армии. Одновременно с этим они осуществляли налеты на Тургиново и Лотошино, а затем и рейд по тылам скирмановской группировки противника. Дивизия самостоятельно и в составе корпуса проводила контратаки и наносила контрудары (южнее Волоколамска и в районе Солнечногорска). Она использовалась ив качестве подвижного резерва на угрожаемые направления с целью усиления стрелковых войск (маневр на перехват прорвавшихся через боевые порядки 316-й стрелковой дивизии войск противника)и для прикрытия отхода главных сил армии.
Дивизия Плиева непрерывно находилась в движении, даже если имела задачу на оборону позиций, маневрировала между направлениями, меняя полосы обороны и направления ударов. Дивизия и корпус в целом представляли собой своеобразный постоянно действующий маневренный резерв командующего армией, который в зависимости от обстановки использовался для закрытия брешей, заполнения промежутков, прикрытия флангов, для парирования ударов противника с неожиданных направлений или же для нанесения коротких внезапных ударов по уязвимым местам противника. Ставя задачи коннице, даже на оборону позиции, генерал Рокоссовский, сам бывший кавалерист, никогда не упускал из виду ее главного качества — подвижности: «При нужде можно будет сманеврировать на угрожаемый участок». И, действительно, «при нужде», особенно там, где создавались кризисные ситуации, он профессионально грамотно, со знанием дела использовал конницу, выжимая из нее все, на что она была способна.
Такое использование конницы давало значительный оперативно-тактический эффект, но вместе с тем приводила к чрезмерному расходу боевой энергии конницы. Особенное напряжение испытывали воины 3-й гвардейской кавалерийской дивизии, как правило, действовавшей в первом эшелоне корпуса. На личный состав дивизии ложилась огромная боевая, физическая и морально-психическая нагрузка.
Лично сам И. А. Плиев испытывал, в дополнение ко всему этому, еще один вид нагрузки, выражавшийся в необходимости быстрой перестройки образа мышления и боевого настроя в зависимости от характера боевой задачи, которая ставилась дивизии сразу же, после решения предыдущей или даже не дожидаясь ее решения. Это было очень непросто — и психологически и профессионально, в короткий отрезок времени переходить от одних способов действий к другим. Это требовало от Плиева исключительной мобильности мышления, обеспечивающей быстрый переход от одних проблем к другим, умения быстро входить в новую обстановку, вживаться в нее, находить в ней узловые моменты и, не размениваясь на мелочи, находить кардинальные решения, словом, быстро переключаться от руководства одними видами боевых действий к другим. Это было непросто, так как требовало от Плиева, наряду с большой интеллектуальной гибкостью, еще и огромной физической и морально-психической стойкости. Однако командир гвардейской дивизии проявил все необходимые качества, которых от него требовала обстановка. Он не раз е честью выходил из самых трудных ситуаций, находя те единственные решения, которые позволяли добиваться успеха на поле боя. Дивизия, умело руководимая Плиевым, в сложнейшей боевой обстановке проявила себя как действительно маневренная сила и с блеском решала самые разнообразные боевые задачи.
…29 ноября противнику удалось прорвать фронт обороны 8-й гвардейской стрелковой дивизии. Под напором превосходящих сил врага эта прославленная своей стойкостью дивизия вынуждена была отходить, обнажая тем самым левый фланг и тыл кавалерийского корпуса Доватора. Более того, дальнейшее продвижение противника, в частности, его 5-й танковой дивизии, создало реальную угрозу окружения. В этой обстановке генерал Доватор принял решение вывести корпус из боя, чтобы, уйдя из-под охватывающих ударов противника, уже в более выгодном для себя положении снова занять оборону и перекрыть немецким войскам пути наступления.
Прикрывать выход частей корпуса из наметившегося кольца окружения, согласно решению Доватора, должна была дивизия Плиева. И это был не случайный выбор. Доватор знал, что действия в арьергарде с целью прикрытия отхода главных сил требуют не только большой стойкости от войск, но и способности к самостоятельным, инициативным действиям со стороны их командиров, умения сочетать упорство в обороне позиций с искусным и своевременным маневром. Иными словами, арьергард, который предоставлен самому себе и которому рассчитывать на помощь с чьей-либо стороны не приходится, должен пренебречь собственной судьбой и обеспечить выход из боя главных сил и необходимый отрыв их от противника. Ставя подобную задачу именно дивизии Плиева, Доватор был уверен, что она будет во что бы то ни стало решена, и решена, успешно, несмотря на то, что части 3-й гвардейской кавалерийской дивизии были в значительной мере обескровлены в ходе непрерывных, ожесточенных боев. Такова уж судьба частей и соединений, завоевавших славу самых стойких, активных — словом, надежных. И чем выше эта слава, тем выше и цена, которую приходится платить, чтобы и дальше поддерживать ее. Боевое реноме — штука коварная, как говорится, «назвался груздем, полезай в кузов». В этой связи поневоле напрашивается историческая аналогия. Читатель, знакомый с военной историей, должен помнить: когда русским войскам приходилось трудно и нужно было отходить, Суворов, не раздумывая, в арьергард всегда выделял отряд во главе с Багратионом. Когда же нужно было наступать, в авангард или же на решающее направление ставил опять-таки войска во главе с Багратионом. «Князь Петр не подведет» — говаривал Суворов.
Это хорошо, когда в тебя верят, на тебя расчитывают. Но это и тяжелая ответственность, тяжелая ноша — всегда быть в готовности оправдать доверие. Великая честь, оказываемая военачальнику, требует от него и соответственно великих усилий — умственных, морально-психических, наконец, физических. Это уже судьба. И Плиеву выпала такая судьба — быть всегда в готовности, быть всегда там, где горячо. Ему верили, на него надеялись: «Плиев не подведет». И Плиев не подводил. В наступлении он всегда был впереди, в первом эшелоне: в период августовского рейда его дивизия первой прорвалась через расположение противника, впереди других частей корпуса действовала она в ходе Скирмановской операции, а затем и при нанесении контрудара южнее Волоколамска. Она же шла в авангарде, когда корпус получил задачу ударом в направлении Солнечногорска воспретить дальнейшее продвижение противника на юг вдоль Ленинградского шоссе. Но дивизия Плиева была обращена лицом к противнику и тогда, когда другие силы корпуса вынуждены были отходить. Так было, когда отходили с рубежа реки Межа, так было и при отходе с рубежа реки Лама. Но вот теперь ей снова приходится прикрывать отход главных сил корпуса, но уже в гораздо более тяжелой и чрезвычайно сложной обстановке. Так было всегда: в тяжелые времена все надежды возлагаются на тех, кто уже не раз доказывал на деле свою стойкость и боевое мастерство.
… Пропустив через свои боевые порядки отходившие части корпуса, 3-я гвардейская кавалерийская дивизия Плиева одна приняла на себя всю тяжесть борьбы с наседавшим противником. В течение дня части дивизии отбивали атаки противника. Когда же был получен приказ командира корпуса, разрешавший дивизии отходить, то ее части вели боевые действия уже в глубоком тылу противника и все пути отхода были перекрыты заслонами врага, вышедшего главными силами в район Алабушево.
Плиев задумался. Нужно было решать одновременно две сложнейшие задачи: выйти из боя на одном участке и, изменив направление действий, прорваться через вражеские заслоны — на другом. Но как это сделать? Оставить часть сил на прикрытие — значит, заранее обречь их на гибель. В иных условиях тактически такая жертва всегда считалась оправданной. Но теперь, когда дивизия и без того была ослаблена, нужно было дорожить каждым человеком. Кроме того, для прорыва из окружения, кольцо которого с каждым часом становилось все более плотным, нужны были достаточные силы. «Нет, — думал Плиев, — прорываться нужно всеми силами». Это была уже идея решения. Она — эта идея — была обусловлена и тактической необходимостью и чисто человеческими чувствами. Слишком много было пролито крови, и Плиев уже не хотел жертвовать ни одним своим солдатом. Здесь командир и человек слились воедино. А это не так уж часто встречается на войне. В военачальнике всегда борются два начала. И, как правило, в этой коллизии всегда верх берет командир. Но какой ценой! — ибо ни один военачальник не в состоянии до конца освободиться от своей человеческой сущности. Его постоянно гнетет трагическая необходимость посылать людей на смерть. В утешение ему остается одна-единственная мысль — «Так надо!» — освященная вековым опытом боевая необходимость, выражаемая в принципе: жертвуют частью, чтобы дать выжить, выстоять целому, когда нет возможности сохранить все. «Все или ничего» — здесь не подходит. Здесь уместнее: «Если не все, то хоть что-то…»
Однако в данном случае Плиев решил по-иному. Дождавшись темноты, он одновременно и быстро снял с занимаемых позиций все полки и тоже одновременно бросил их на прорыв… в северном направлении, то есть еще дальше в глубь вражеского расположения. Противник этого не ожидал. Дерзкими и стремительными действиями заслоны противника были опрокинуты. Используя ночь и леса, дивизия искусным маневром вышла всеми силами, на свое направление и на рассвете 30 ноября в районе Савелки вновь заняла оборону.
Надо отметить, что успех (да, и отступая можно добиваться успеха, если отступление — сознательно определенная задача, решение которой служит оперативно-тактическим целям более высокого порядка) в действиях дивизии был обусловлен дерзостью замысла Пли-ева. А дерзость заключалась в том, что с обороняемых позиций все полки были сняты одновременно. В случае, если бы противник разгадал этот ход Плиева, дивизии пришлось бы туго. Но Плиев рассчитал точно. И в этот раз он до дна использовал «фактор ночи и леса» — условия, в которых противник чувствовал себя весьма неуверенно. Кроме того, оправдался и другой расчет Плиева: он повел полки не в ту сторону, где их мог ожидать противник, то есть на юг, а прямо в противоположном направлении, то есть на север, а затем окружным путем вывел их к главным силам корпуса.
Этот «прием» Плиев применял не раз — и до и после. Так он поступил, когда выходил из боя после Скирмановской операции. Так он поступит и позже — в 1944 году в районе Бреста. Это была ставка на неожиданность. Это было следствием хорошо усвоенного положения, что на войне своя геометрия, что здесь кратчайшим расстоянием не всегда является прямая. Но, чтобы выводить такие «узоры», нужна была не только высокая подвижность, но и качественно нечто более высокое, а именно — мобильность в самом широком смысле. Высокая подвижность дивизии Плиева превращалась в мобильность благодаря ее высокой управляемости. Добиться этого было нелегко, но Плиев сумел превратить дивизию в такую боевую единицу,, которая, подчиняясь его воле, быстро реагировала на изменения в обстановке и четко выполняла задуманный им маневр.
… Успешный выход соединений 2-го гвардейского кавалерийского корпуса из-под охватывающих ударов противника, более того, из реально обозначившегося кольца окружения, позволил им вновь встать на пути врага, рвавшегося к Москве. Однако, учитывая огромные потери, понесенные корпусом в длительных, не прерывавшихся ни днем, ни ночью боях, с 1 декабря он был выведен в резерв армии. Перед соединениями корпуса была поставлена задача как можно в более короткий срок привести себя в порядок и в максимально возможной степени восстановить свою боеспособность. С этой целью в частях и соединениях развернулась большая работа по приведению в порядок наличного оружия и материальной части, снаряжения и конского состава. Все виды довольствия и запасов пополнялись до нормы. А в связи с большими потерями в личном составе принимались энергичные меры по доукомплектованию боевых частей и подразделений за счет тыловых учреждений, а также маршевого пополнения.
Хотя корпус и числился в резерве, тем не менее он имел задачу оборонять рубеж Малино, Брехово. В центре боевого порядка корпуса располагалась дивизия Плиева, справа от нее — 4-я гвардейская, а слева 20-я кавалерийские дивизии. Привлечение соединений корпуса, до предела измотанных в многодневных непрерывных боях, было вынужденным и объяснялось тем, что противник, сосредоточив крупные силы пехоты и танков в районе Алабушево, Крюково, Бакеево, готовил новый удар в юго-восточном направлении — на Москву.
- Гвардия. Конники генерала Л. М. Доватора, находясь в армейском резерве, старательно и ускоренными темпами приводили себя в порядок, готовились к новым схваткам с врагом. Готовились… и одновременно вспоминали весь путь, пройденный ими от берегов Западной Двины до канала им. Москвы, вспоминали все, что осталось в прошлом составляло теперь их боевую историю. Но почему в прошлом, почему историю? Разве то, что жгло сердце и напоминало о себе болью еще не заживших ран, могло уйти в прошлое? Нет, все пережитое переживалось ими заново. Атаки и контратаки, победы и поражения, совместно пролитая кровь — все это было с ними, жило в них… Они и теперь так же остро переживали все перипетии отгремевших сражений, как и тогда, когда до последнего солдата защищали занимаемые позиции или же, поливаемые свинцовым дождем, в конном строю устремлялись в лихую контратаку. Однако, вспоминая, они испытывали не только горечь утрат и досадных неудач, но и радость побед. Они вкусили и от пирога славы. Но их — горцев Кавказа, казаков Кубани, хлеборобов Ставрополья, начинавших боевой путь корпуса, — осталось теперь совсем немного. И все-таки именно они составляли тот костяк, который обычно определяет и моральный дух и боевой настрой полков. Это они вместе с павшими товарищами вынесли на своих плечах всю тяжесть неравной борьбы с противником. Это им предстояло теперь познать радость, которую испытывает воин, когда ему и его товарищам, всем вместе воздают должное за честно исполненный солдатский долг. Доваторцы жили в ожидании дня, когда им вручат гвардейские знамена.
И вот этот день наступил. В корпус прибыл член Военного совета 16-й армии А. А. Лобачев. Дивизионный комиссар по поручению Ставки Верховного Главнокомандования в торжественной обстановке вручил кавалерийским соединениям гвардейские знамена и выразил твердую уверенность, что советские конники и впредь будут драться с врагом, не зная устали, и разить его беспощадно.
Гвардейцы Плиева, получив знамя, поклялись, что «клинок, вынутый из ножен, не будет опущен до тех пор, пока на советской земле останется хоть один оккупант».
… Плиев смотрел на своих солдат и видел, как их лица озарялись радостью при взгляде на гвардейские знамена. Он понимал их: да, несравнимое это чувство, когда персонально отмечают твой, лично твой подвиг, но не меньшее чувство радости испытывает настоящий солдат и тогда, когда отмечаются не единичные подвиги отдельных храбрецов, а неоднократно и настойчиво проявленная сотнями и тысячами воинов совместная воля к победе, к решению поставленных перед ними боевых задач. Эта воля и стремление слить личные усилия с усилиями тысяч себе подобных обусловили тот массовый героизм, который в сочетании с высоким ратным мастерством позволил частям Плиева добиться выдающихся боевых результатов, за которые они и удостоились почетного звания гвардейских. Коллективная награда еще больше сплачивала личный состав дивизии, превращала его в боевой монолит.
… Плиев смотрел на своих гвардейцев и думал о пройденном ими боевом пути. Думал и о том, какая великая ответственность ложится теперь на плечи тех, кто удостоился великой чести называться гвардией, кто удостоился почетного права сражаться под этими вот, только что врученными им, алыми знаменами…
Гвардия!.. Это слово ласкало слух Плиева и вместе с тем рождало и в нем самом огромное чувство ответственности за последующие действия дивизии. Теперь дивизия не могла, не имела права воевать кое-как, хотя и до этого делала все, чтобы заслужить славу одной из лучших кавалерийских дивизий Красной Армии. Давно ли она была сформирована, а вот уже стала гвардейской!
Гвардия… Она зародилась давно. Ее история уходит вглубь веков. Гетеры в Македонии, священные дружины в Древней Греции, «бессмертные» у персов, преторианцы у древних римлян, нукеры у татаро-монголов, янычары у турок… Они являли собой отборную, привилегированную часть войска, его ядро и постоянную часть. Офицерский состав гвардии комплектовался из представителей знати, а солдаты набирались из физически сильных и рослых людей, доказавших свою верность трону или господствующей власти. Однако гвардия была не просто лучшей, привилегированной частью армии. Из привилегий возникали и обязанности. Право называться гвардией обязывало ко многому. Слово «гвардия» одновременно выражало и почет, которым окружались части, удостоенные этого звания, и особое боевое предназначение этих частей, как ударных формирований: быть всегда впереди других, там, где создаются кризисные ситуации, где решаются самые сложные и важные задачи, словом там, где требуется особая сила духа, железная стойкость в обороне, неукротимый напор в наступлении, высочайшая доблесть и ратное умение.
И все-таки, несмотря на четко определенную предназначенность, двух одинаковых гвардий не бывает: у каждой армии своя гвардия — такая, какую она заслуживает, какая более всего соответствует ее задачам и царящему в ней духу.
Фашистский вермахт имел в качестве гвардейских соединения войск СС. Эта фашистская гвардия верой и правдой служила гитлеризму с ее человеконенавистнической идеологией, проповедовавшей национальную исключительность германского народа и его предназначенность к мировому господству — словом, все самое черное, гнусное, низменное.
Базой формирования войск СС послужили военизированные организации национал-социалистской партии — охранные отряды СС и частично штурмовые отряды СА. В дивизиях СС состояли и те, кого муштровали в лагерях «Гитлер-Югенд», о которых Гитлер говорил: «Мы вырастим молодежь, перед которой содрогнется мир… я хочу видеть в ее взоре блеск хищного зверя». И, действительно, вырастили. Вырастили людей, освобожденных от необходимости думать, потому что за них думал «фюрер». Они обязаны были только действовать. Вырастили людей, свободных от совести, которую Гитлер называл «химерой».
Вот из таких «избранных» комплектовались войска СС. Это им фашистские идеологи на все лады твердили, что преступление перестает быть преступлением, если оно совершается по приказу. Немало усилий в формировании морального облика эсэсовцев вложил и такой фашистский военный идеолог, как Зольдан. Он считал, что войска СС должны состоять из людей, не обнаруживающих «ни следа этического величия», проявляющих «демоническую любовь к опасностям» и «честолюбие», не останавливающихся перед совершением любых преступлений, не признающих никаких норм морали. «Убивайте! Убивайте! Убивайте!» — вот чему учили главари фашистов немецкую молодежь.
Таким образом, фашистская гвардия с самого начала формировалась как банда убийц и насильников. Поэтому эсэсовцы по сути своей больше походили на карателей и палачей, нежели на воинов. И это вполне объяснимо, ибо низменные, человеконенавистнические цели, которые ставили перед собой фашисты, требовали солдат бездумных, бездушных, фанатичных — одним словом, жестоких, не знающих пощады роботов, с машинной неумолимостью перемалывающих свои жертвы. Войска СС, воспитанные в духе фашизма и личной преданности «фюреру», были карательными, ибо на них возлагались задачи не только утверждения власти германских империалистов на вновь захватываемых территориях, но и проведение террора против самого немецкого народа.
Эсэсовцы были карателями и палачами, несмотря даже на то, что эти головорезы при необходимости могли проявлять большую стойкость, храбрость и более высокий по сравнению с другими солдатами вермахта боевой напор. Они были палачами, потому что использовались не только на поле боя как боевая сила, но и в качестве карателей против мирных жителей, потому что пренебрегали законами и обычаями войны — писаными и неписаными. Они были жестоки и кровожадны. Они выполняли свою «работу» не как тяжелую, неприятную и трагическую необходимость, а с садистским удовольствием, наслаждаясь муками замученных ими до смерти людей. Они не знали великодушия даже к поверженным воинам противника. Они убивали безоружных, раненых. У них никогда не было ни капельки благородства, которое проявляли иногда даже самые жестокие завоеватели. Они были неумолимо беспощадны до конца. Садизм был их патологией.
Поэтому попытки недобитых фашистов реабилитировать войска СС, сохранить за ними статус гвардии были пресечены не только международным общественным мнением, которое видело в них наиболее разбойничью часть вермахта, но и Международным военным трибуналом в Нюрнберге, объявившем СС преступной организацией.
Было бы наивно думать, что в других армиях мира только и было забот, чтобы научить солдат бальным танцам или же правилам хорошего тона. Солдатам во всех армиях внушают не заповеди Христа о любви к ближнему, а учат их, в первую очередь, воевать. Такова специфика ратной службы во всех без исключения армиях. Однако, несмотря на эту, казалось бы, ставящую их в один ряд профессиональную специфику, между армиями стран социализма и капитализма лежит непреодолимая пропасть. Потому что главное, что определяет лицо каждой армии, не ее профессиональная, а социальная предназначенность. Цели и методы, которыми достигаются они, — вот что определяет характер армии в целом и морально-нравственный облик ее солдат в частности.
Между прочим и советские солдаты, в том числе и гвардейцы, обучались в первую очередь не балетным па, а умению владеть оружием и убивать… Убивать врагов! Как говорится: «На войне, как на войне». Родина им приказывала: «Убей немца» — и они убивали до тех пор, пока немец в качестве оккупанта топтал нашу советскую землю, пока он не сложил оружия. Но никогда эту трагическую необходимость убивать других ни сами советские солдаты, которые далеко не все были ангелами, ни советская пропаганда не смаковали. Никогда советские солдаты не фотографировались на фоне виселиц, как это делали эсэсовские палачи. Им был чужд культ насилия. Верно и то, что Красная Армия боролась с гитлеровским вермахтом и эсэсовцами не в лайковых перчатках. Но если какой-то солдат, ослепленный жуткими картинами нацистских зверств на его земле, поддавался чувству мести, — такие эксцессы сурово карались советским командованием, что бы ни говорили сейчас безродные подпевалы реваншистов.
Советские воины никогда, ни при каких обстоятельствах не выступали в роли палачей и карателей. Они всегда оставались настоящими бойцами. Да, они убивали, но убивали в бою, убивали врагов, их руки никогда не были обагрены кровью невинных жертв.
Советские гвардейцы были настоящими воинами. Они беспощадно уничтожали сопротивляющегося врага и великодушно щадили поверженного. Они били врага до тех пор, пока тот не выпускал из рук оружия. Их ненависть к врагу не знала границ, но она не ослепляла их, не заглушала в них человеческое начало, ибо оборотной стороной этой ненависти была любовь — любовь к родной стране, любовь к советскому народу, любовь к человеку. Именно эта любовь позволяла сохранить человеческое в ожесточившихся сердцах, придавало их ненависти точную социальную ориентировку, делало ее политически прицельной.
Об этой стороне нравственного облика советских воинов хорошо сказал один из ветеранов Великой Отечественной войны. На вопрос сына: «Скажи, отец, тебе: не страшно было на войне стрелять в людей?» — он ответил: «Помни, сын, а то еще запиши где-нибудь, чтоб на всю жизнь осталось, мы, советские солдаты, в людей никогда не стреляли!» Это было и остается потрясающей правдой, ибо фашисты со своей звериной идеологией и практикой истребления целых народов поставили себя вне рамок рода человеческого. И когда советских солдат наставляли: «Убей немца!», то имели в виду только фашистов, ибо даже в самые тяжелые для нас времена мы никогда -не отождествляли фашизм немецкий народ.
Советская гвардия специально не комплектовалась. В ней не было избранников по рождению, не было и молодцов двухметрового роста или косой сажени в плевах. Советская гвардия родилась в огне боев из обычных частей и соединений, укомплектованных обыкновенными солдатами, которые, однако, доблестью своей первыми и более других прославились на полях сражений в суровом 41-м году. Это свидетельствовало о социальной однородности нашей гвардии, ее органической связи с народом, другими соединениями Красной Армии, о том, что в потенции каждая часть, каждое соединение «мели все возможности, чтобы стать гвардейскими. Однако становились ими только некоторые — те, которые среди самых стойких проявляли еще большую стойкость, а среди наиболее активных — наивысшую боевую активность.
…Плиев смотрел на своих гвардейцев и не мог налюбоваться ими. Здесь были люди самых различных возрастов — и молодые и старые, и те, кто уже нюхал порох первой мировой и гражданской войны, и те, кто узнал почем фунт лиха только сейчас — в Великую Отечественную… Грамотные и малограмотные, рабочие и крестьяне, учителя и инженеры, стройные и нескладно-скроенные — словом, самые разные люди. Одно их роднило—все они были советскими. Вот поэтому, а еще и потому, что все они в равной мере уже проявили себя настоящими воинами, Плиев не различал их внешних достоинств. Он был уже достаточно опытен, чтобы обмануться внешностью: не всегда великий телом оказывался великим и духом. Видел он молодцов, которые, позабыв про мужскую честь и долг перед Родиной, превращались перед лицом опасности в жалких трусов. Помнил он и тех, кто, казалось, дунь только на него и он упадет, однако они не только не падали, но выдерживали шквал вражеских атак, уверенно и умело исполняли свой солдатский долг, до последнего дыхания не выпуская из рук оружия. Он преклонялся перед величием духа тех, кто, казалось, физически не в состоянии выдержать даже малейшего напряжения. Своим поведением в бою они существенно уточняли сложившуюся в веках заповедь: «в здоровом теле здоровый дух». Он особенно любил именно этих… потому что они делали гораздо больше, чем могли, и не менее того, чего от них требовала обстановка и боевая задача.
…Перед командованием корпуса торжественным маршем проходили прославленные полки и эскадроны. Это они четыре с половиной месяца насмерть сражались с врагом, нанося ему невосполнимые потери и заставляя его терять драгоценное время на штурм обороняемых ими позиций. Орлы — да и только! Но среди этих орлов Плиев наметанным глазом выделил группу кавалеристов. Они отличались лихой молодцеватостью, статью и той особой посадкой в седле, которая отличает джигитов-наездников высшего класса. Это был взвод, которым командовал М. Н. Туганов — тот самый Туганов, который до войны руководил прославленной цирковой труппой наездников. Осетины-джигиты неизменно пользовались огромным успехом у зрителей. Они были волшебниками в своем искусстве. Но вот грянула война и вся труппа, как один человек, ушла на фронт, в корпус Доватора. Этому событию, славным советским джигитам посвятила Ю. Друнина свое стихотворение, в которых есть и такие строки:
«Вылетают на манеж джигиты,
Свищут шашки, падает лоза.
Ну, а после, прямо с представленья,
Под оваций бешенный прибой,
Конное ушло подразделенье
Защищать свою столицу, в бой».
Плиев гордился этим взводом, но не только потому, что он состоял из его земляков: лихие наездники способны были на чудеса не только на арене цирка, но и на поле боя. Они с честью выполняли самые трудные и опасные задания. Особенно отличались тугановцы, когда нужно было вести разведку в тылу противника…
Смотрел Исса Александрович на своих бойцов, и чувством гордости наполнялось его сердце. Он боялся быть чрезмерно пристрастным в своих оценках, но губы его, тем не менее, шептали: «Герои!» Нет, не пристрастие в нем говорило. Слишком много было объективных данных, которые свидетельствовали и подтверждали то, что думал Плиев о своих подчиненных. Ведь это факт, что конники в исключительно напряженной оперативной обстановке, сложившейся на западном направлении, в очень тяжелых условиях лесисто-болотистой местности сумели прорваться в тыл группировки противника, рвавшиеся к Москве, и нанести ей такие удары, которые, в ряду других усилий советских войск, позволили спутать карты противника, нарушить все намеченные им сроки продвижения на восток! Ведь это факт, что понесшие значительные потери части дивизии, не получая существенного пополнения, тем не менее длительное время сдерживали врага, умело осуществляли отход с одного рубежа на другой! Три раза дивизия оказывалась в окружении и трижды она выходила из него и вновь вставала на пути врага несокрушимой стеной. Ведь это факт, что главный удар противника во втором его генеральном наступлении на Москву пришелся по дивизиям Панфилова и Плиева. И если противнику не удавалось решить поставленные им перед собой задачи, то это заслуга, в первую очередь, бойцов Панфилова и Плиева! Так почему же он, Плиев, не имел права называть своих солдат героями? Разве это пристрастие, когда объективно оцениваешь то, что сделано ими?
Гвардия… Почетное это звание, но досталось оно большой ценой. Ведь это факт, что дивизия отошла к Ленинградскому шоссе, имея в своем составе всего лишь 160 активных сабель. Но такое случается лишь тогда, когда воины сражаются с врагом до последнего, не на жизнь, а насмерть. Перед ним проходили остатки тех, кто ценой своей жизни завоевал своей дивизии звание гвардейской. Их осталось мало, очень мало… Но Плиев надеялся, что и новые бойцы, которые придут к ним, тоже станут гвардейцами — не по преемственности, наследуя чужую славу, а благодаря собственному мужеству, новыми подвигами приумножая старую славу. Плиев верил в это, потому что верил в свою «старую гвардию» — тех, кто еще остался жив, кто пришел вместе с ним сюда, в Подмосковье, с берегов Кубани. «Старики» и теперь, хотя их и осталось мало, составляли тот чудесный боевой костяк, который одним уже фактом своего существования не дает прерываться боевым традициям. А они уже были эти традиции. Главная из них заключалась, в железной стойкости личного состава дивизии, а также в приверженности к гибким и маневренным действиям, в высокой боевой активности.
Так думал Плиев о своих солдатах и офицерах, оценивая состояние и боевые возможности дивизии. Но и о нем тоже думали: у армейского и фронтового командования уже сложилось мнение о Плиеве, как об одаренном командире, способном вырасти в крупного военачальника. В Плиеве видели умного и решительного командира, способного мыслить широко и оценивать обстановку в развивающейся перспективе. На него стали полагаться, будучи уверенными, что он даже в безвыходных ситуациях сумеет найти единственно правильное решение. Но сила Плиева, как военачальника, заключалась не только в этих его личных качествах, но еще и в способности опираться на мужество и боевое умение подчиненных. Этот сплав командирского таланта и солдатской доблести и давал тот боевой эффект, который принес славу всем соединениям и объединениям, которыми довелось командовать Плиеву в ходе Великой Отечественной войны.
- «Последний батальон»… Хотя кризис наступления уже обозначался, тем не менее немецко-фашистское командование продолжало прилагать огромные усилия, чтобы не дать угаснуть наступлению. Натолкнувшись на упорное сопротивление войск Красной Армии и не имея уже достаточно сил, чтобы преодолеть его ударом на избранном направлении, вражеское командование прибегло к иной тактике действий: оно стало часто менять направления ударов своих войск в надежде нащупать слабые места в обороне советских войск, с тем, чтобы использовать их для прорыва в сторону Москвы. Действуя подобным образом, гитлеровцам иногда еще удавалось то на одном участке, то на другом проталкивать отдельные свои части и соединения вперед. В результате таких вот импульсивных скачков противнику удалось 28 ноября форсировать канал им. Москвы у Яхромы, а в ходе ожесточенных боев, длившихся несколько дней, к 3 декабря овладеть районом Крюково. Но эти успехи противника уже не имели ничего общего с тем мощным напором, который они оказывали на войска 16-й армии на всем фронте обороны еще несколько дней назад. Это были последние конвульсии затухающего наступления
Немецко-фашистское командование и само начало осознавать, что мощь ударов соединений группы армий -«Центр» стала резко убывать. Однако обстановку в целом оно оценивало весьма своеобразно. Так, главнокомандующий Восточным фронтом фельдмаршал фон Бра-ухич считал, что обе стороны в битве под Москвой напрягают последние силы, и свои надежды на победу он возлагал только на то, что советские войска не имеют резервов в глубине. Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал фон Бок еще 2 декабря считал, что оборона Красной Армии близка к кризису и поэтому необходимо «максимальным напряжением сил использовать эту проявляющуюся слабость противника». Общая оценка положения на фронте под Москвой у немецко-фашистского командования сводилась к следующему: «У нас дела идут, правда, не совсем хорошо, но у русских еще хуже…» Подобный, надо прямо сказать, авантюрный расчет на не совсем обычное соотношение возможностей сторон — «у нас не совсем хорошо — у иих еще хуже» — обусловливал дальнейшие намерения и характер действий немецко-фашистских войск в завершающей фазе их наступления под Москвой, — когда силы их были уже на исходе, резервов не было, а войска еще пытались двигаться вперед, их питала надежда, что еще одно, последнее усилие — и разбитые русские, которые «тоже не имеют резервов в глубине своего фронта и в этом отношении находятся в еще худшем положении…», будут окончательно опрокинуты. Фельдмаршал фон Бок еще в начале двадцатых чисел ноября сравнивал создавшееся под Москвой положение с обстановкой сражения на Марне в 1914 году, когда, по мнению военных авторитетов того времени, судьбу сражения мог решить один-единственный «последний батальон». Но тогда такого батальона не оказалось ни у одной из сторон и сражение фактически окончилось гроссмейстерской», то бишь «оперативной ничьей».
Теперь же в стремлении извлечь уроки из прошлого и не упустить своего шанса в настоящем, немецко-фашистское командование делало все, чтобы не дать войскам Красной Армии стабилизировать обстановку. Исходя из предположения, что Красная Армия уже до дна исчерпала свои резервы, а, следовательно, и возможности усиливать свою оборону, оно считало достаточно обоснованными свои надежды на то, что в сложившейся обстановке именно «последний батальон» решит судьбу сражения. Основываясь на подобных соображениях, гитлеровские генералы настойчиво гнали свои обессиленные войска на Москву и бросали в бой последние резервы. Однако им следовало бы знать, что в борьбе таких масштабов и таких противников, как СССР и Германия, судьба главной стратегической операции кампании не могла быть решена одним, «последним» батальоном: в гигантском сражении на чашу весов была положена не только судьба столицы, и, чтобы склонить эту чашу в какую-либо сторону, одного батальона, пусть даже «последнего», было явно недостаточно. Нужна была «гиря» куда посолиднее.
Гитлеровцам следовало бы знать и то, что война между СССР и фашистской Германией была не обычной войной двух государств. Здесь столкнулись два мира, две противоположные общественные системы, и в борьбе между ними чисто количественные оценки не могли выражать реальных возможностей сторон. Мощь Красной Армии от первого и до последнего ее батальона определялась не только их «номиналом», то есть количеством сил и средств, но и той моральной силой, которой не было и не могло быть у фашистской- армии. Эта моральная сила питалась самой природой Советских Вооруженных Сил. Благородные и возвышенные цели борьбы за свободу, честь и независимость социалистической Родины обусловливали необыкновенную боевую стойкость и мужество советских воинов. Их способность выдержать колоссальное боевое напряжение обусловливалось качествами, внутренне присущими им как гражданам великой советской державы. Их преданность Родине и Партии в ходе вооруженной борьбы с фашистскими агрессорами из морально-политического фактора постоянно материализовалась в фактор огромного оперативного значения. Таким образом, «сверхоружие» Красной Армии заключалось в том, что высокие морально боевые качества ее воинов придавали обычному оружию необычно высокую эффективность — в их руках это оружие становилось как бы и мощнее и метче. Вот этого-то и не способны были понять и учитывать гитлеровские генералы в своих расчетах на «последний батальон». Кроме того, они забывали, что их вермахту противостояла не только Красная Армия, но и весь советский народ. А в подобной ситуации батальон, если он даже и «последний» (в смысле — «решающий»), ничего не решает. Когда народ встает на борьбу за свою свободу, в конечном счете, за право на собственное существование, такой, обычно неумолимый фактор, как соотношение сил, перестает срабатывать. Здесь начинают действовать другие факторы и другие законы.
С самого начала силы сторон в битве под Москвой были разительно неравны. И в этих условиях, естественно, должен был срабатывать древний закон войны: два батальона были сильнее одного. Но советское командование в своих оперативных расчетах, в противовес немецко-фашистскому командованию, не могло, не имело права руководствоваться этой вот арифметикой, ее правилами, — рубежи Подмосковья нужно было защищать и удерживать вопреки этим правилам. И это им в значительной мере удавалось, потому что в вооруженной борьбе, кроме правил арифметики, есть еще и законы более высокого порядка, которые, в конечном счете, и определяют исход боев и сражений. И теперь, когда сражение на подступах к Москве подошло к решающей фазе, в действии вступили законы «высшей математики» — того раздела военной науки и военного искусства, которая руководствуется логикой борьбы не на жизнь, а на смерть — ведь речь шла уже не об одном проигранном или выигранном сражении, а о судьбе столицы, о судьбах всего советского народа, о существовании советского государства и социализма как общественной системы. В этих условиях мера стойкости войск Красной Армии определялась уже не просто количеством их сил и средств, не соотношением возможностей сторон, а силой духа советских воинов, их готовностью к самопожертвованию, ненавистью к врагу и любовью к Родине.
Нет, чаша на весах борьбы такого масштаба, которая развернулась под Москвой в преддверии зимы 1941—1942 гг., не могла быть склонена в ту или иную сторону одним лишь «последним батальоном». Правда, опять-таки, если руководствоваться простейшими правилами арифметики и физики, обычно для того, чтобы одна чаша весов перетянула другую, достаточно на одну из них бросить лишний грамм, как, скажем, бывает достаточно еще одного градуса, чтобы вода, нагретая до 99°, закипела, чтобы количество на определенном уровне перешло в новое качество.
Но в битве под Москвой ситуация, хоть и была сложной и очень тяжелой для советских войск, однако она была далека от того, чтобы напоминать весы. Здесь обстановка еще не созрела и уже никогда не могла созреть до той степени, чтобы «последний батальон», брошенный в бой, мог создать критический уровень, и, перетянув чашу оперативных весов в свою сторону, решить исход сражения. Во-первых, потому, что кризис немецкого наступления обозначился гораздо раньше, чем наступил момент, который немецко-фашистское командование оценивало как ситуацию «последнего батальона». Во-вторых, обозначившийся в начале декабря момент оперативного равновесия наступил не только в результате истощения ударной мощи немецко-фашистских группировок, но и в результате планомерного усиления войск Красной Армии за счет подходивших из глубины страны стратегических резервов. Следовательно, если равновесие, носившее сложный динамический характер, и могло быть нарушено, то уже не в пользу вермахта и тем более не силами одного батальона. Это могло быть достигнуто лишь усилиями более высокого порядка и той стороной, которая еще сохранила способность к наращиванию собственных усилий. А такой стороной являлась Красная Армия: в момент, когда немецко-фашистское командование буквально по крохам наскребало силы для своего пресловутого «последнего батальона», надеясь с его помощью не дать устояться обстановке и по инерции на плечах отходящих частей Красной Армии ворваться в Москву, советское командование уже завершало сосредоточение и развертывание крупных резервов, соединения которых уже через день-два были брошены к полю боя — и не просто для усиления обороняющихся войск, а для нанесения по противнику мощных контрударов, которые вскоре, в ходе своего развития, без паузы переросли в контрнаступление. Да и немцы вскоре сами убедились, что их «последний батальон» каждый раз становился «предпоследним»… Итак без конца, пока битва на подступах к Москве не вытянула у них действительно последние силы.
Авантюризм установки немецко-фашистского командования на «последний батальон» проистекал из непонимания им всей сложности обстановки, в которой протекало сражение под Москвой. Обстановка, представлявшая собой сложное сплетение самых разнообразных факторов — от собственно военных до морально-политических, от экономических до пространственно-временных, подчас несоизмеримых и противоположно направленных в своих проявлениях, — оценивалась им односторонне, в, основном, чисто количественном плане, видя в ней лишь военную сторону.
Такая оценка обстановки привела к тому, что гитлеровские генералы вольно или невольно все свели к проблеме одного батальона, в то время как исход битвы под Москвой мог явиться следствием сложного диалектического взаимодействия всех элементов обстановки. А это в свою очередь привело к тому, что вражеское командование в заключительной фазе наступления на Москву свои оперативные планы и расчеты на успех строило на пределе возможностей своей армии, без достаточного запаса прочности. Однако авантюризм немецко-фашистского командования проявился не только в неверных методах планирования, но и в самых элементарных просчетах, связанных с незнанием обстановки. Короче, — опростоволосилась немецкая разведка: в то время, когда она считала, что у русских уже не осталось резервов, в Подмосковье нарастающей волной прибывали все новые и новые соединения Красной Армии. Вступление в сражение свежих сил положило начало коренному повороту событий в пользу войск Западного фронта.
Таким образом, в известном смысле, можно сказать, что исход сражения под Москвой решил «последний батальон»… но не тот, который никак не давался гитлеровцам в руки, а тот, который своевременно, в решающий момент, оказался у стен родной столицы у командования Западного фронта. Только это был большой батальон, который немцам и во сне не мог присниться, — нанося мощные контрудары, в боевые действия вступали соединения трех общевойсковых армий…
Но в наше время находятся еще военные теоретики которых, видимо, не устраивают не только итоги второй мировой войны в целом, но и отдельных ее сражений, и теперь, уже задним числом, пытаются оспаривать закономерность их исхода. Если в декабре 1941 года фашистским генералам казалось, что им не достает всего лишь одного батальона, чтобы окончательно сломить, сопротивление советских войск и ворваться в Москву, то в наши дни американские фальсификаторы истории, отмечая 40-летие начала второй мировой войны, с серьезным видом заявляют, что одного-единственного парашютно-десантного полка было бы вполне достаточно, чтобы захватить Москву. Ну что это, как не та же самая песенка о последнем батальоне, только на новый лад, но далеко не лучший? Видимо, история в данном случае ничему не научила американских апологетов гитлеровского вермахта. Неужели всерьез полагают, что немцы, располагавшие хорошо подготовленными и обладавшими значительным опытом воздушно-десантными частями, не смогли тогда сообразить что к чему, позабыли о своих десантных войсках и все свои надежды продолжали возлагать на «последний батальон».
Дело, конечно же, не в забывчивости немецко-фашистского командования. Оно всегда держало в поле зрения все свои силы и, надо сказать, умело выжимало из сил все, на что они были способны. Видимо, оно более реалистично оценивало сложившуюся к тому времени обстановку, чем это сейчас делают с дистанции времени американские военные историки. Немцы хорошо понимали всю разницу между «последним батальоном» и парашютно-десантным полком и их боевыми возможностями. Если для гитлеровских генералов понятие «последний батальон» было в некотором смысле метафорическим, условным обозначением некоторого количества сил и на практике могло выглядеть более внушительно, чем просто батальон или даже полк, то новоявленные стратеги из Вашингтона, ничтоже сумняшеся, на полном серьезе назвали весьма конкретную величину силы — парашютно-десантный полк, — которой, якобы, было бы достаточно, чтобы овладеть Москвой. Какое незнание истории, какое дремучее невежество и в политике и в военном деле! Видимо, дистанции в 40 лет было недостаточно, чтобы понять и всесторонне осмыслить исторический опыт,
Если фашисты возлагали какие-то надежды на «последний батальон», то у них, по крайней мере, была своя логика: в случае, если бы этому «батальону» удалось прорваться на каком-либо участке, то за ним, подпирая его, они намеревались бросить и другие силы группы армий «Центр». А кто пришел бы на помощь парашютно-десантному полку, выброшенному за линию фронта на глубине 40—50 километров, можно сказать, прямо на штыки частей Московского гарнизона? Бросать на многомиллионный город, каждый житель которого был солдатом своей Советской Родины, всего лишь один-единственный полк — значит, потерять всякое ошущение реальности. Если бы десант все-таки был сброшен на Москву, то он был бы расстрелян в воздухе. Но даже если бы ему и удалось приземлиться в полном составе, то и тогда он не сыграл бы своей роли. Его хватило бы всего лишь на пару часов боя, ибо рассчитывать на чью-либо помощь или поддержку он не мог.
Но фальсификаторам истории неймется. Им хочется представить все, что было, в выгодном для себя свете. И начинается чехарда с «если бы да кабы». Но это палка о двух концах. Их многочисленным и нередко надуманным «если» противостоят действительные «если», которые и определяли тогда реальную обстановку, а теперь встают частоколом перед их далеко не благородным стремлением извратить факты. Никому не удастся принизить величие одержанных Красной Армией побед. Уж слишком много «если» нужно устранить со страниц истории или заменить их другими «если», чтобы то желаемое для наших недругов, которое, однако, в прошлом не свершилось, подать теперь как случайно не осуществившуюся, но вполне реальную возможность.
Ох, уж это «если»!.. — не будь его, в истории все было бы иначе. Однако история имеет одно хорошее свойство: как бы ее не насиловали, сколько бы ее не переписывали, все остается так, как было. Что было, то было! Изменить что-либо в прошлом, в том, что уже свершилось, нам не дано. Даже из благих намерений. Как говорится, из песни слов не выкинешь… История развивается по своим законам, каждое «если» детерминировано и имеет свой особый смысл. И поэтому, рано или поздно, каждая ложь обнажает себя.
Продолжение следует…
А. Г. Гучмазов
Генерал армии И. А. Плиев
Издательство «Ирыстон» Цхинвал 1984